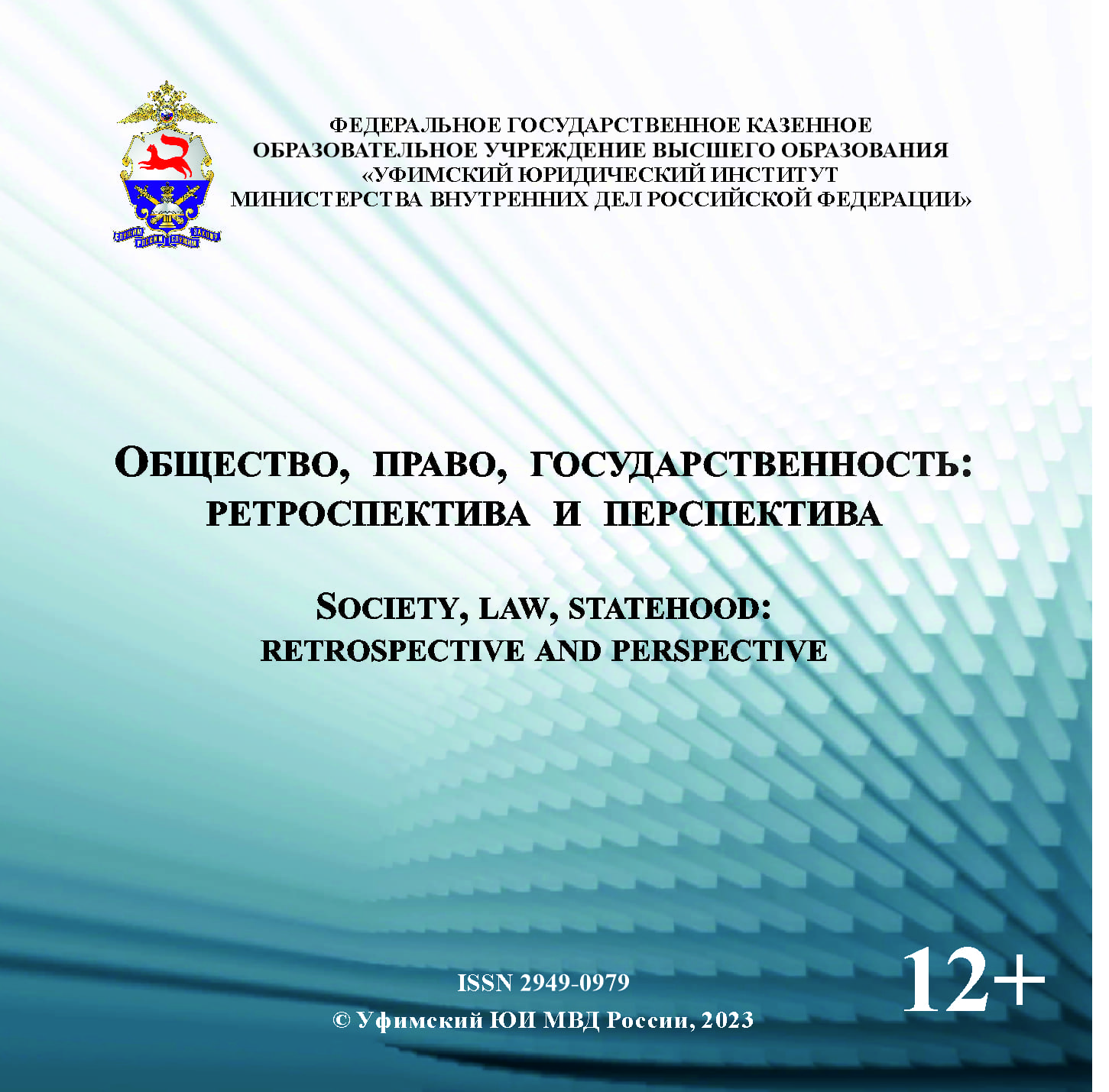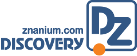Russian Federation
UDC 316.6
UDC 351.741
In this paper, the authors consider some theoretical and methodological concepts regarding the peculiarities of the functioning of the consciousness of an individual serving in the investigative units of theinternal affairs bodies, which affect the formation of patterns of their behavior. Modern ideas about the correlation of human consciousness with their behavior are actualized when it comes to government structures, where the behavior of an individual is determined especially carefully, which may be due, on the one hand, to the tradition, on the other hand, to the goals pursued by this institution. If we talk about the activities of the investigative units of the internal affairs bodies, there are a large number of normative legal acts that determine not only the algorithm of the investigator’s actions when investigating crimes, but also their behavior at work. However, the mental characteristics of a person exist in a different field in relation to the modern Russian legislation, which nevertheless does not detract from the need for the functioning of the legal system in the state and regulation of the behavior of police officers at work and off-duty, since service in the internal affairs bodies pursues goals aimed at ensuring social order. The conducted research shows the complexity of legal determinism of the behavioral characteristics of an employee of the investigative bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
institutionalization, behavior, consciousness, investigator, internal affairs agencies, the Ministry of Internal Affairs of Russia, social practices
Введение
Сознание выступает в качестве одного из детерминантов поведения сотрудников ОВД. Существующие нормы права, призванные определить границы должного поведения государственного служащего, проходят сквозь «фильтр» индивидуальности конкретного индивида, отраженного в сознании [1]. Результаты действия требований положений нормативных правовых и правовых актов представляется возможным наблюдать на примере сложившихся паттернов поведения следователей в территориальных органах МВД России с учетом особенностей сознательного опыта государственных служащих указанной категории и теоретико-методологических концепций, раскрывающихся взаимосвязь между поведением человека и его сознанием. В этой связи целью настоящего исследования является изучение основных теоретических концепций, рассматривающих индивидуальное сознание человека как средство формирования его повседневных неформальных практик [2].
Методология
Для понимания значения индивидуального сознательного опыта сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, лежащего в основе их неформальных социальных практик [3], целесообразно в качестве основного метода исследования определить сравнительно-сопоставительный анализ. Благодаря данному методу исследования представляется возможным описать и выявить наиболее существенные различия актуальных теоретико-методологических концепций, главным предметом исследования в которых является корреляция сознания индивида с его социальными практиками. Что касается рассмотрения специфики институционализации неформальных социальных практик следователей ОВД с позиции эмпирического познания, то важно отметить, что данный вопрос изучался отдельно [4]. В настоящей работе представляется интересным экстраполировать достижения когнитивистики [5] для понимания повседневной деятельности представителей следственных подразделений системы МВД России.
Результаты
Одним из первых, кто поднимает вопрос сложности описания и фиксации сознательного опыта, является Дэвид Чалмерс [6], предлагающий концепцию «философского зомби». В соответствии с предложенным мысленным экспериментом австралийского философа необходимо вообразить себе человека (следователя ОВД, повара, водителя трамвая), который будет вести себя так же, как и другой человек (другой следователь), но при этом не будет по тем или иным причинам испытывать ощущения, характерные для такого индивида. Например, в результате получения физических повреждений этот человек может показывать, как ему больно, но при этом не испытывать в действительности никаких болевых ощущений или вести себя, как другие люди, но быть, в сущности, подражателем, действующим в отсутствии стимулов. Возможность проверить, как данный человек функционирует на уровне сознательного опыта эмпирическим путем, представляется затруднительной. Можно попытаться создать крайне сложную компьютерную технику, способную распознавать мельчайшие реакции нервной системы человека, иллюстрирующие чувство боли, и измерять мозговую активность, однако, в сущности, и это, вероятно, не даст утвердительного ответа на поставленный вопрос. Это связано с тем, что «философский зомби» вполне способен имитировать полностью весь спектр человеческих реакций.
Продолжая поиски решения проблемы на заданные мысленным экспериментом вопросы, можно пойти дальше и сказать, что, условно говоря, существующий аппарат, с помощью которого возможно отслеживать реакции человеческого мозга и тела, указывает на то, что «философский зомби» как бы плохо играет следователя, которому больно, поскольку такое устройство показывает, что какая-то часть нервных клеток реагирует так, будто бы в действительно этот следователь и не чувствует боли. Но, как известно, бывают люди с разным болевым порогом, а также бывают лица с такими ментальными особенностями, которые, на первый взгляд, отличают их от большей части людей, но кажется, что и такие люди существуют примерно так же, как и другие. Относительно последнего тезиса Эрвин Гоффман пишет: «Я не знаю случаев психопатии, где схожие симптомы не обнаруживались бы среди нормальных людей, которых никому и в голову не придет обвинять в психических отклонениях» [7, С. 160].
Экстраполируя идею Д. Чалмерса на деятельность следователя ОВД, необходимо отметить, что, например, «философский зомби» в его работе может проявляться в виде разности профессиональных потенциалов следователей одного подразделения. Иными словами, менее опытный следователь, недавно принятый на работу в органы внутренних дел может стараться имитировать работу более опытного сотрудника, без скрупулезного изучения требований положений уголовно-процессуального закона («бихевиоральный зомби»).
Таким образом, существенным достижением теории Чалмерса является то, что визуальное инспектирование поведенческих особенностей индивида не дает оснований для наличия сознательного опыта. «Cogito ergo sum», безусловно, но проблема в данном случает заключается в том, как верифицировать это «cogito».
Концепция «философского зомби» Д. Чалмерса напоминает мысленный эксперимент Джона Серла [8], показывающей несостоятельность теории сильного искусственного интеллекта, согласно которой ИИ может обладать некоторыми ментальными способностями, свойственными живому человеку. Весь смысл мысленного эксперимента Дж. Серла под названием «Китайская комната» сводится к тому, что системе не надо знать и тем более понимать сущность того, что происходит, главное знать алгоритм действий, дающий адекватный ответ на запрос из вне. Иными словами, необходимо научить систему (машину) эксплицировать наличие определенного знания, генерируемого посредством заранее прописанных алгоритмов, при этом наличие самого знания не требуется. Речь в данном случае идет не столько про саму информацию (тезаурус), которая может достаточно просто хранится и воспроизводится, например, на компьютере, а скорее о необходимости соотнесения слова с референтом в целях понимания лексического значения слова, что присуще человеку. Можно использовать профессионализмы, характерные для следователей ОВД («возбужденка», «стодвадцатьпятка», «куспировать», «привлеченка»), но это не делает индивида следователем.
Следующим доводом относительно трудности постижения сознательного опыта является то, что знание об особенностях того или иного физического или биологического явления ничего не значат для сознательного опыта. Предположим, что необходимо выяснить причины, сформировавшие паттерны поведения следователя таким образом, что он перестал в достаточной степени придерживаться формальных норм, закрепленных в УПК РФ [9] и ведомственных нормативных правовых актах [10]. При этом знание, например, о его состоянии здоровья не могут нам помочь в понимании истинных мотивов, заставивших его игнорировать требования законодательства Российской Федерации.
Допустим, нарушение памяти привело к тому, что сотрудник начал забывать особенности проведения проверки сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ [9]. Такое состояние человека ничего не говорит о качественных характеристика сознательного опыта: например, один нездоровый следователь может исполнять обязанности строго в соответствии с действующим регламентом, другой — нет. Об этом же говорит Фрэнк Джексон в мысленном эксперименте «Комната Марии» [11]: некая девушка Мэри все знает о цветах, но никогда их не видела, а когда она впервые в своей жизни видит эти цвета, информацией о которых она владела, она получает чувственный опыт, несводимый к простой информации об особенностях тех или иных цветов.
Более того, когда речь идет о том, что есть следователь, совершающий не совсем приемлемые делинквентные поступки в рабочее время (от курения до коррупции), и есть такой же следователь в этом же территориальном органе МВД России или в любом другом, который работает в соответствии с позитивными нормами права. Сознательные мотивы и сознательный опыт у этих сотрудников могут быть совершенно разными.
Основная проблема заключается в том, что никакие практики не дают возможности в действительности поставить себя на место другого человека, потому что, чтобы это сделать, надо иметь аналогичный сознательный опыт, который давал бы осознание самого себя на этом месте или в определенной социальной роли.
Человек не может получить сознательный опыт другого человека, потому что существование двух людей в одинаковых условиях не делает их одинаковыми, даже когда речь идет, например, о близнецах. Наиболее ясно это прослеживается с позиции концепции Томаса Нагеля [12], подробно разработанной в его статье под названием «Что значит быть летучей мышью?». Нагель дал понять, что, возможно, единственное свойство сознания, которое характеризует его в полной мере и которое показывает причину огромного спектра вариативности поведенческих особенностей даже среди членов одного коллектива на базовом уровне, это «быть-чем-то». То есть только индивидуальное сознание существа может свидетельствовать о том, что это сознание есть, и оно есть у него.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что с позиции теории сознания невозможно дать удовлетворительного ответа относительно причин формирования таких повседневных социальных практик следователей, которые в той или иной степени отклоняться от доминирующих требований, установленных нормативными правовыми актами, поскольку та социальная реальность, которая конструируется посредством действий позитивных норм права, не супервентна [13] свойствам индивидуального сознания сотрудника. Другими словами, неформальные практики следователей не могут быть сведены к сознательным актам, интенциям отдельного сотрудника следственных подразделений ОВД.
Хотя здесь следует пояснить, что иногда социальные практики все-таки могут отражать интенцию сознания сотрудника ОВД, не свойственную сознанию, вовлеченному в определенный процесс.
Например, один из автором настоящего исследования, проходя службу в органах предварительного следствия системы МВД России Краснодарского края, находясь в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН по Краснодарскому краю в целях производства следственных действий по уголовному делу, обратил внимание на то, что некоторые следователи не только «легче» проводят следственные действия в стенах закрытого учреждения, предназначенного для ограничения свободы подозреваемых и обвиняемых, но и могут выделять время для решения иных оперативно-служебных задач посредством телефонной связи (если такой следователь получил разрешение начальника СИЗО на пронос смартфона на территорию указанного учреждения) или путем обсуждения их с коллегами, которые в этот же момент находятся на территории изолятора. Есть основания полагать, что это зависит как от опыта следователя и стажа его работы в ОВД, так и от уровня правосознания индивида. И в этом месте необходимо вернуться к вопросам специфики сознания, детерминированных требованиями положений нормативных правовых актов и особенностями социальной ситуации [14].
Нельзя не сказать о том, что понимание некоторых особенностей человеческого сознания не устраняет необходимость создания нормативно-правовой базы, определяющей рамки дозволенного поведения людей в социуме. На конституционно-правовом уровне при поверхностном восприятии может создаться впечатление, что существует контраст правового государства и свободы личности. Однако позитивные нормы права, делегирующие субъективные права, не созданы в целях попущения произвола в действиях людей, на что прямо указывает часть 3 статьи 17 Конституции РФ [15], и не ограничивают его свободу.
Заключение
В заключении важно сказать о том, что приведенные в настоящей работе теоретические положения относительно специфики функционирования сознания индивида призваны указать на сложность определения мотивов какого-то определенного типа поведения, в том числе делинквентного, но прямо не свидетельствуют о поведенческих особенностях. Тот же «философский зомби» становится таковым, если наблюдатель знает, что человек, испытывающий определенные чувства, делает вид, что он их испытывает. При этом такое понимание не влияет на поведение самого имитатора: имитация становится ясной в том случае, если наблюдателю удается «попасть за кулисы». Проще говоря, то, как ведет себя человека и то, почему именно он себя так ведет, — разные вопросы.
Кроме того, важно помнить и про этическую сторону поведения сотрудников органов внутренних дел, поскольку данный аспект основательно связан с необходимостью создания благоприятного образа государственного служащего в глазах общественности и поддержании служебной дисциплины при исполнении обязанностей [16].
В частности, в пункте 5 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации указано: «Невыполнение сотрудником этических требований приводит к утере им доброго имени и чести, лишению морального права на уважение, поддержку и доверие со стороны его коллег, руководителей (начальников) и других граждан» [17].
Таким образом, сотруднику ОВД, если он желает продолжить службу в МВД России, необходимо придерживаться четких правил поведения, установленных федеральным законодательством [18] и правовыми актами Министерства, независимо от того, какую концепцию целесообразно использовать для описания специфики поведения следователя.
Тем не менее рассмотренные подходы к пониманию особенностей сознания индивида свидетельствуют о том, что крайне затруднительно унифицировать паттерны поведения сотрудников следственных подразделений посредством требований нормативных правовых актов, поскольку ментальные особенности человека находятся в иной плоскости по отношению к законодательству. В то же время невозможно допустить произвол со стороны тех лиц, которые обеспечивают состояние законности в обществе во многом благодаря личным примерам правового поведения. Кроме того, также важно обратить внимание на то, что неправомерное поведение сотрудников следственных подразделений ОВД является не самым частотным феноменом, что не в последнюю очередь связано с личными мотивами и существующими мерами дисциплинарного воздействия. Следовательно, в настоящее время можно говорить о достаточно совершенной системе контроля за соблюдением требований законодательства и правовых актов МВД России.
1. Skorikova Yu. N. On the question of the relationship between the categories of “legal awareness” and “legal behavior” of military personnel in the interactionist paradigm of legal psychology // Psychology and pedagogy of service activity. 2024. No. 1. P. 34–38. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.24412/2658-638X-2024-1-34-38. EDN TLTKOG (In Russ.)
2. Kubyakin E. O., Kochkin A. A. On the interpretation of social everyday practices of an individual in the context of the “subject-object” dichotomy: from anthropology to the sociology of everyday life // Society, law, statehood: retrospective and perspective. 2024. No. 2 (18). P. 81–89. EDN AKDNUC. (In Russ.)
3. Kochkin A. A. Basic approaches to the consideration of informal social practices // SEARCH: Politics. Social studies. Art. Sociology. Culture. 2024. No. 5 (106). P. 108–115. EDN CCBDKG. (In Russ.)
4. Kochkin A. A. Informal social practices on the example of the activities of internal affairs bodies’ investigators // Society: sociology, psychology, pedagogics. 2024. No. 10 (126). P. 23–28. DOI: https://doi.org/10.24158/spp.2024.10.2. EDN VNYWHT. (In Russ.)
5. Kochkin A. A. The penetration of criminal philosophy into the social environment through computer information // Digital transformation of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia : collection of scientific articles based on the materials of the International forum : in 2 parts, Moscow, October 20, 2022 / ed. by I. G. Chistoborodov. Moscow : Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2022. Part 1. P. 405–416. EDN KSGGBA. (In Russ.)
6. Chalmers D. The conscious mind: in search of a fundamental theory / transl. from English by V. V. Vasilyev. Moscow : URSS: LIBROCOM Book House, 2013. 512 p. (In Russ.)
7. Goffman E. Total institutions: essays on the social situation of mentally ill patients and other residents of closed institutions / transl. from English by A. S. Salin ; ed. by A. M. Korbut. Moscow : Elementarnye formy, 2019. 464 p. (In Russ.)
8. Searle J. Minds, brains, and programs // Behavioral and brain sciences. 1980. Vol. 3, No. 3 (September). P. 417–424. (In Eng.)
9. Jackson F. Epiphenomenal Qualia // Philosophical quarterly. 1982. Vol. 32, Issue 127. P. 127–136. (In Eng.)
10. Nagel T. What is it like to be a bat? // The Philosophical review. 1974. Vol. 83, No. 4. P. 435–450. (In Eng.)
11. Davidson D. Mental events // Experience and theory / L. Foster, J. W. Swanson (eds.). L. : Humanities press, 1970. P. 79–101. (In Eng.)
12. Goffman E. Behavior in public places: notes on social organization / ed. by M. M. Sokolov. Moscow : Elementarnye formy, 2017. 382 p. (In Russ.)
13. Kochkin A. A. On the issue of informal practices of investigators in the Ministry of Internal Affairs of Russia // New contours of social reality : materials of the All-Russian scientific and practical conference (the 12th North Caucasian Sociological Readings), Stavropol, November 15, 2023. Stavropol : North Caucasus Federal University, 2023. P. 61–65. EDN GSZHLP. (In Russ.)